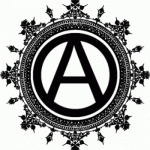Социализм оказался утопией, и чары его развеялись. Социализм умер. Эти и подобные им высказывания можно сегодня услышать с всех сторон. Человечество переболело опасной детской болезнью и теперь выздоравливает. Идеи демократии и свободной рыночной экономики наконец-то одержали победу, и теперь уже ничто не сможет омрачить их торжество. Так или примерно так заявляют лидеры и политики западного мира, а вслед за ними и вожди новых независимых государств, образовавшихся на развалинах СССР.
Социализм оказался утопией, и чары его развеялись. Социализм умер. Эти и подобные им высказывания можно сегодня услышать с всех сторон. Человечество переболело опасной детской болезнью и теперь выздоравливает. Идеи демократии и свободной рыночной экономики наконец-то одержали победу, и теперь уже ничто не сможет омрачить их торжество. Так или примерно так заявляют лидеры и политики западного мира, а вслед за ними и вожди новых независимых государств, образовавшихся на развалинах СССР.
Ну что ж, скажем над постелью умирающего прощальное слово и отправим затем покойника в последний путь?
Во избежание недоразумения следует объясниться. Мы не испытываем ни малейшего сожаления в связи с кончиной той общественной модели, которую с таким счастьем отпевают одни и так же сильно оплакивают другие. Крах тоталитарного устройства, так напоминающего мрачный кошмар оруэлловского “1984”, можно было бы только приветствовать. Но помимо сомнения в адрес тех, кто идет в похоронной процессии, есть и другие моменты, заставляющие пристальнее всмотреться в единодушное торжество новоявленного “праздника избавления”.
Кого же здесь хоронят?
Тоталитарный ленинистский порядок? Да, конечно. Но только ли его? Не присутствуем ли мы при своеобразной переоценке ценностей, да притом таких, которые отнюдь не ограничиваются рамками большевистской модели? Давайте вслушаемся в эти доводы, доносящиеся из похоронной толпы. Хватит экспериментов, хватит утопий! Долой мечты о светлом будущем, “сны о чем-то Большем” — подайте нам гарантированное и сытое настоящее! Довольно вообще фантазий и идеалов — это иллюзии! Истинны только сытое брюхо да набитая мошна: торжествующая психология сверчка, знающего свой шесток…
Виновато ли естественное стремление человека к свободе, равенству, счастью, гармонии, взаимной помощи в том, что тираны использовали его и прикрыли свое царство этими красивыми словами? Виноват ли Христос в зверствах инквизиции, а Будда — в угнетении религиозных меньшинств в буддийских странах?
Так что же умерло? Социализм или Нечто, нацепившее на себя его плащ? Как противники социалистической идеи, так и апологеты потерпевшего поражение устройства здесь оказываются едины, и это невероятно характерно. И для тех и для других именно социализм потерпел поражение, разбит, отступает, умирает.
“На Земле еще не существует социализма” (1), — писал в 1963 г. немецкий революционер Руди Дучке. С тех пор миновало 30 лет, но эти слова по-прежнему остаются горькой правдой. Не будем же отпевать то, что еще не родилось на свет!
Индустриализм и миф о двух системах
Еще в начале 70-х годов, ученые, далекие от любого социализма, обосновали тезис о “пределах роста”. Сопоставив самые различные факторы, такие, как ограниченность природных ресурсов, рост количества ядовитых, вредоносных отходов в результате бурного развития производства, увеличение потребления, климатические изменения, порожденные хозяйственной деятельностью человека, и другие, эти исследователи пришли к заключению, что уже во второй четверти — середине XXI в. человечество ждет уничтожающая и губительная экологическая катастрофа или, возможно, серия таких катастроф. Их следствием может стать вымирание человека как вида либо его деградация.
С тех пор как были сделаны эти прогнозы, прошло 20 лет. Они и оправдали выводы ученых и не оправдали их. Наступление катастрофы оказалось не таким резким и быстрым, в некоторых сферах и странах угрожающие процессы удалось если не остановить, то замедлить. Но главный прогноз, главная тенденция остается в силе. Признать это заставляет нас не только простой вывод о том, что безграничный, бесконечный количественный рост производства и потребления в ограниченной системе планеты Земля с ее конечными возможностями воспроизводства и сложным балансом природных систем невозможен. Сама жизнь — от Чернобыля до озоновой дыры, от умирающих лесов до засух и голода в Африке — подает нам многочисленные признаки надвигающейся беды.
Отбросим сиюминутные нужды и проблемы, оглянемся внимательно вокруг. Да, история, основанная на завоевании и покорении природы и внутреннего мира человека, действительно зашла в тупик. На всем ее протяжении людской род дорогой ценой платил за экономический и технический прогресс. На месте многих процветавших и плодородных речных долин расстилаются пустыни, а некогда богатые и шумные города занесены песками. Но сегодня под угрозой не несколько долин, а всемирная человеческая цивилизация. Наступил день, когда никакие достижения и блага культуры и технического гения, никакое потребительское изобилие уже не в состоянии возместить издержек. Человек последовательно уничтожает основы собственной жизни и жизни грядущих поколений. Как будто он заключил сознательный союз со смертью, подобно гигантским стаям леммингов, неуклонно стремящимся к скалистому обрыву над морем.
Все это отнюдь не предопределенный свыше, религиозный “конец света”, не апокалипсис или армагеддон, родившийся в сумеречном сознании. Нет, таков, увы, вполне закономерный итог того типа развития человечества, что издревле был основан на логике господства над всем окружающим как над объектом власти (будь то природа или другие люди), на тотальной жажде обладания и властвования. Десятки человеческих поколений усваивали с детства, что гармония немыслима, невозможна, что выжить в обществе и в окружающем мире можно лишь, победив в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе за существование.
Капитализм — строй, подчинивший всю жизнь человека экономике с ее законами роста, накопления и конкуренции, — негласно начертил эту максиму на своих знаменах. Капиталистический индустриализм довел ее до апогея, единственной и необратимой нормы бытия.
Индустриально-капиталистическая система — вот непосредственный виновник надвигающейся катастрофы, которая приближается медленно кошачьим шагом, заслоняясь от населения наиболее развитых стран грудами товаров, комфортом, бесконечным разнообразием искусственных продуктов, вытесняющих живой мир.
Индустриализм — это не просто тип производства и потребления. Он предстает перед нами как логика, закономерность безграничного увеличения производства, потребления, накопления, материального достатка, с одной стороны, расхищения энергии, сырья и человеческих ресурсов (любой ценой и невзирая на долгосрочные потребности живущих и будущих поколений) — с другой, стандартизации, “формовки” людей — с третьей. Его содержание — лихорадочная гонка за экономической эффективностью, материальным богатством, умножением благ и привилегий, совершенствование контроля и власти. Именно поэтому он неотрывен от бюрократии, от централизованной власти, примата неких “общих” (государственных, национальных, ведомственных, корпоративных и т. п.) интересов перед необходимостью сохранения здоровья и жизни людей, их свободной самореализации.
В основе индустриальной экономической системы — особый тип разделения труда, производительные силы, организованные таким образом, что неизбежно возникает предельное разделение между руководителями и исполнителями конкретных, частичных операций. Поэтому существование управляющих и управляемых, тех, кто принимает решения, и тех, кто выполняет приказы, запрограммировано. А вместе с этим предопределены отчуждение и эксплуатация. Причем отчуждение не только экономическое (от продукта своего труда). Оно комплексное, или, если угодно, тотальное: отчуждение от природы, от продуктов своей деятельности, от решений, принимаемых в обществе, от своих подлинных интересов, от себя самого, от других людей. Человек становится своего рода роботом, выполняющем конкретное задание, но не постигающим совокупности и смысла своих собственных действий.
Начавшись как система организации производства, индустриализм распространился на все сферы общественной жизни, сковывая их тем, что М. Вебер назвал “формальной рациональностью”. “Рационализируются” все отрасли человеческой деятельности, происходит “замена внутренней приверженности привычным нравам и обычаям планомерным приспособлением к соображениям интереса” (2), торжествует узкий утилитаризм, форма превращается в самоцель. Модели огромной фабрики, которая работает подобно единому механизму, обеспечивая оптимальный и наиболее эффективный рост прибыли и власти, соответствует и общество, либо функционирующее как единая фабрика по централизованному плану, либо управляемое наиболее “компетентными”, то есть выдержавшими испытание в острой конкурентной борьбе менеджерами, технократами, предпринимателями, политиками и иными “специалистами”, “солью земли”. Демократия сводится лишь к периодическому отбору наиболее “способных” из них. На большее “маленький человек” просто не тянет — таков негласный постулат индустриального общества. Колесику или винтику не обязательно знать, для чего работает машина, лишь бы они прилежно выполняли свои задачи. А чем их “смазать” — сверхличностной, сверхчеловеческой “идеей” или жаждой личного обогащения — это принципиальной роли не играет.
“Рационализируются” не только экономика и управление, но и сама повседневная жизнь людей, их отношение к себе, к окружающему миру, друг к другу. Стремление возобладать над окружающим, над природой и другими людьми, достичь собственного господства над этим миром, чтобы выжить в борьбе за существование, и до этого было стимулом многих человеческих поступков, пусть не единственным. Теперь же этот стимул заслоняет и вытесняет другие. От природы и от людей требуют не гармонии и не взаимопомощи, но исключительно материальной полезности. Наконец, деформируется само мышление человека. Не эта ли “рационализация” мышления побуждает обывателя высмеивать и отвергать любую мечту, фантазию, идею, любой благородный порыв, любую “утопию”, вырывающуюся за пределы утилитарной выгоды и серой, усредненной нормы?
Итак, если мы суммируем проявления индустриализма как определенного строя жизни и мышления, то обнаружим две характерные черты. Они наиболее важны в нашей попытке добраться до коренных причин той опасности, что угрожает человеческому роду. Во-первых, это доведенная до абсолюта логика господства как ведущий стимул любой деятельности. В различных вариантах индустриалистского общественного устройства она может проявляться по-разному: на частнокапиталистическом Западе — в виде погони за прибылью любой ценой, в том мире, который до сих пор прикрывался этикеткой “социализма” с определением “реальный”,— как жажда приобрести иерархические привилегии. Но в обоих вариантах человека вынуждают стремиться к власти, к триумфу над всем окружающим. Ибо: топчи — или будешь растоптан сам.
Во-вторых, к важнейшим чертам индустриализма следует отнести предельную специализацию, крайнее разделение труда (техническое и социальное), которое доходит до полного разрыва между руководителем и исполнителем, производителем и потребителем. Этот признак, опять-таки характерный и для “западных” и для “восточных” разновидностей, предопределяет негативные последствия индустриализма: “производство ради производства”, разрушающее окружающую среду и игнорирующее действительные нужды природы и потребителей, отчуждение и подчинение человека внешнему диктату (будь то безликие, надличностные законы рынка или произвольные решения управляющей бюрократии), антисолидарное поведение людей, подтачивание человеческой личности, ее творческой фантазии и свободы экономической рациональностью и материально-потребительской ценностной ориентацией.
Индустриализм, конечно, не есть исключение в человеческой истории. В известном смысле это развитие тенденций, которые складывались и накапливались в ходе предшествующей эволюции. Это логическая и, вероятно, последняя стадия в истории обществ, основанных на господстве классовых и государственных структур. Абсолютизированная рациональность, подчинение всех жизненных проявлений экономике и крайнее разделение труда позволяют локализовать индустриализм еще конкретнее — как завершающий этап развитого товарного производства, капитализма. Тот, на котором все вокруг превращается в товар, в объект для подчинения монополии на обладание (собственности) и управление (власти).
Более старый и развитый, своего рода классический вариант индустриализма — западное рыночное общество. Оно наиболее смягчило и комфортабельно обставило свой закат. Ломящиеся от товаров прилавки магазинов, высокое материальное благосостояние значительной части населения в западных метрополиях скрывают от глаз нищету и голод на периферии этой части мира, где-нибудь в Африке или Латинской Америке. Но и в самом центре уже неумолимо тикает часовой механизм экологической мины замедленного действия, напоминая о том, что умирание тоже может быть пышным и изобильным.
Рыночный производитель не знает, найдет ли спрос его товар. Конечно, он предполагает, прогнозирует, но он рискует. Апологеты рыночной экономики видят именно в этом ее достоинство. Дескать, риск заставляет хозяйствовать более эффективно, рационально, прибыльно, порождает изобилие товаров и услуг. Верно, западный рынок порождает изобилие, и измученному дефицитами “советскому” потребителю этого оказалось достаточно. Он наивно поверил, что рынок — идеальный механизм для удовлетворения его потребностей. И при этом забыл о том, что на многие из этих потребностей рыночному производителю, по существу, наплевать. Ведь рынок удовлетворяет лишь потребности людей, обладающих платежеспособным спросом. А им обладают далеко не все, в этом бывшие советские граждане уже смогли убедиться. “Голодный ребенок в Африке, – пишет автор учебника по маркетингу, – имеет потребность в хлебе, но не обладает спросом на хлеб”. Индийский, китайский или африканский крестьянин, живущий полунатуральным хозяйством, житель кварталов нищеты в Азии или Латинской Америке, перебивающийся случайными заработками или милостыней, российский рабочий, мясяцами не получающий зарплату – все они почти не имеют дела с живыми деньгами, они находятся на далекой переферии рыночной системы или даже полностью выброшены из нее. Их потребности рыночные производители практически не учитывают. Половина или даже большая часть населения земного шара, особенно в экономически слаборазвитых регионах находится в таком положении.
“В современном мире заинтересованность в экономическом росте (плодами которого пользуются немногие) больше, чем заинтересованность в том, чтобы обеспечить всех людей всем необходимым. Если, как предрекают, 20% населения, работающего по найму, будет достаточно для мирового капитализма, возникает вопрос, какой же интерес будут иметь остальные 80% в сохранении мирового капитализма, если они не будут иметь никаких жизненных и социальных гарантий” – пишет немецкий левый журнал “Шварцен Фаден”?
Но и с теми, кто обладает возможностью платить, не все просто. Если удовлетворять тот или иной запрос потребителя рыночному предпринимателю не выгодно, он выберет иной путь: постарается убедить покупателя, что ему нужен именно тот товар, который он, производитель, изготовляет. Если потребности нет — ее нужно создать. Это и называется маркетингом. “На самом деле, – говорится все в том же учебнике маркетинга, – корпорации не удовлетворяют спрос, а создают его”. Исследуя доходы, виды деятельности, способы развлечений, наконец психологические особенности той или иной категории потребителей, корпорации выбрасывают на рынок товар, который потребители данной категории, возможно, захотят приобрести. Пускается в ход все, начиная от реальных потребностей людей в том или ином предмете и кончая тонкой игрой на слабостях человека, на его амбициях. На него непрерывно обрушивается, своего рода, поток соблазнов, зачастую самого низкого пошиба, и этим соблазнам бывает очень трудно противостоять. Вся эта тончайшая манипулятивная кухня дополняется мощной психологической обработкой – рекламой, зачастую воздействующей уже на подсознание человека.
Результаты оказались ужасными. Целый мир искусственных, стимулированных потребностей все больше и больше вытесняет подлинные реальные потребности человека. Производитель манипулирует желаниями людей, побуждая их приобретать все больше не столь уж нужных, а то и попросту ненужных им вещей. И производство таких вещей растет неуклонно, из года в год. “Производство ради производства” подстегивает “потребление ради потребления”. Изготовляется намного больше товаров, чем общество в состоянии потребить.
“Ну и что же здесь ужасного?” — может спросить иной гражданин, которому и в наши трудные дни, несмотря ни на что, доступны все радости рыночного потребления.
Ужасно то, ответим мы, что для производства всей этой груды товаров затрачивается больше сырья, энергии и человеческих сил, чем это необходимо и допустимо. Растет не только гора благ и услуг — растут и кучи отходов, груды мусора. Рыночное общество оказывается на поверку расточительным и разрушительным. Экономическая рациональность рынка оборачивается экологической нерациональностью. Змея пожирает собственный хвост. Рынок “диктует… беспощадное требование “расти или умри” (3), — пишет современный американский анархист и эколог М. Букчин. А французский экосоциалист А. Горц суммирует: порождаемый рынком “разрыв решений о производстве и потреблении пробуждает на всех уровнях тенденцию к максимальному росту” (4). Но это означает именно последовательное, упорное, комфортабельное (для некоторых) сползание в экологическую пропасть!
Рыночный капитализм — это общество, развившее экономику до ее высшего предела, подчинившее ей всю остальную жизнь людей. А погибнет он от того, что экономика как раз игнорирует, — от экологических неразрешимых проблем. Вопрос только в том, погибнет ли он один, или увлечет в смертельную бездну человеческий род? Индустриалистическая логика господства и количественного роста оказывается сердцевиной рыночной экономики, а потому, не устранив ее, невозможно ни освободить человека от диктата внешних сил, ни спасти нашу планету.
Каким бы уязвимым ни был западный вариант индустриализма, он оказался все же сильнее своего восточного конкурента — так называемого “реального социализма”. Правители и апологеты этой модели избрали в качестве своего идейного оружия теорию о “двух системах”. Они объявляли свое общество альтернативой “западному капитализму”, коренным образом отличной от него и ведущей с ним непримиримую борьбу. Они гордо и самонадеянно уверяли, будто их “социализм” окажется победителем в этой долгой войне (иногда “холодной”, чаще “горячей”) и восторжествует не только политически, но и экономически. Надежды эти оказались таким же несбыточным мифом, как и сам тезис о “двух противостоящих друг другу системах”.
Никаких двух систем не было и в помине. Существовали две разновидности одной и той же системы — капиталистического индустриализма. И принципиально они не отличались друг от друга.
Бюрократическое централистское руководство в обществах – так называемого “реального социализма” отнюдь не устранило обменный, товарный характер производства. Разрыв между производителями и потребителями сохранялся, но обмен стал осуществляться не частными лицами, а государством с помощью определяемых им монопольных цен. Как и в условиях рыночной экономики, человек не имел возможности определять, как ему следует жить, трудиться и распоряжаться своим свободным временем.
А. Горц в “Критике экономического разума” выделял две формы несвободы человека, две разновидности положения, при котором его воля скована, а собственная деятельность и вся жизнь общества ускользают из-под его сознательного контроля (5). Первая форма проистекает из многочисленности несогласованных эгоистических действий индивидов. Именно так происходит при рыночной экономике. “Их действия обретают некую связанность в виде внешнего вектора, устанавливающегося в ходе рыночных процессов, но эта связанность — результат случая. Он, как и в термодинамике, основан на чисто статистических законах и не имеет ни смысла, ни цели” (6). Итог не отвечает задачам, которые ставят перед собой участники процесса, их жизнь подчинена, таким образом, внешним, чуждым им “закономерностям”. Это и рождает разрушительность, неразумность рыночного общества, толкает его к экологической катастрофе.
Но есть другая форма несвободы, другой тип отчуждения. Это подчинение людей могущественной организационной структуре, что побуждает их предпринять действия, смысл и цель которых люди не осознают. Отдельные индивиды все так же оторваны друг от друга, не постигают, не видят и не контролируют целого. За них решает всемогущий механизм, предполагающий, что он знает все. Таким механизмом является государство и его бюрократия, а орудием ее становится централизованное планирование сверху. Таким образом, в обществах “реального социализма”, как и при “классическом” западном капитализме, жизнь не подчинялась свободной согласованной воле людей, но определяющие функции передавались не внешним по отношению к индивидам законам рынка, а правящей бюрократии. С другой стороны, бюрократия подобно частным или коллективным капиталистам стремилась к тотальному господству, для чего ей был необходим все тот же безграничный индустриальный рост и экспансия вовне. Экономика все так же торжествовала над экологической гармонией и над свободой человеческой личности. Более того, произвол бюрократического управления, равнодушие чиновников к потребностям природы, людей, вообще ко всем сферам, не приносящим бюрократии непосредственного расширения ее власти и могущества, порождали постоянные экономические диспропорции и дефициты.
“Исторической миссией” российского большевизма стало создание с помощью государства гигантских, ориентированных, в основном, на военные цели заводов, где работники находились под тяжелейшим эксплуататорским прессом и под жесточайшим контролем государственной бюрократии, присваивавшей себе все результаты их труда. Так, под лозунгами социализма и коммунизма создавалась основа индустриального капитализма с огромными армиями наемных рабов.
Когда во время первой мировой войны Германия ввела у себя “принудительное хозяйство” почти во всех отраслях промышленности, немецкое государство устанавливало твердые цены, отбирало весь продукт, нормировало распределение не только промышленного сырья, но и непосредственного потребления людей путем карточек и пайков. Государство глубоко вторглось в сферу частных интересов, заменив рынок централизованным обменом между отраслями экономики, способствовало созданию огромных промышленных монополий. Была отменена свободная торговля и введена принудительная трудовая повинность. Ленин в 1917 году охарактеризовал эту систему как “военно-государственный монополистический капитализм” и назвал ее “военной каторгой для рабочих”. Вместе с тем он утверждал, что государственно-монополистический капитализм полностью обеспечивает материальную подготовку социализма и между государственно-монополистическим капитализмом и социализмом “никаких промежуточных ступеней нет”. Нужно только поставить вместо государства капиталистического государство рабочее. Получалась удивительная вещь: оказывается для перехода к социализму “на военной каторге для рабочих” требовалась лишь смена правительства и изменение структуры госаппарата!
“Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”, – не допуская возражений провозглашал Сталин в конце 20-х годов. Особенная скорость и жестокость индустриализации 30-х годов, в ходе которой были уничтожены миллионы людей, объяснялась, по словам немецкого исследователя Р.Курца, тем, что “в нее, невероятно короткую по времени, уложилась эпоха капиталистического развития (Запада) длиною в две сотни лет: меркантилизм и Французская революция, процесс индустриализации и империалистическая военная экономика, слитые вместе”. Оказавшись у власти в огромной стране, правящая партийно-хозяйственная номенклатура, по существу, очутилась в том же положении, что и царский режим. Она не меньше его стремилась к имперской, державной политике, но материальная база для такого курса оставалась по-прежнему чрезвычайно узкой. Для этого понадобилась бы широкомасштабная модернизация страны, создание мощной современной тяжелой и военной промышленности. С этим власти связывали не только решение внутренних проблем, но и независимость и мощь государства, а значит, стабильность господства и привилегий правящего слоя. Партийно-государственная бюрократия рассчитывала на то, что “… опираясь на национализацию земли, промышленности, транспорта, банков, торговли, проводя строжайший режим экономии, можно будет накопить достаточные средства, необходимые для восстановления и развития тяжелой индустрии”(Сталин). Речь шла, по существу, о специфическом государственном капитализме, при котором государство бюрократии действовало более или менее как совокупный капиталист, как огромная раздувшаяся капиталистическая фабрика. Эта гигантская корпорация под названием СССР была интегрирована в мировую экономику. Она продавала за границу сырье – в 30-е годы – золото, добывавшееся главным образом системой концлагерей и хлеб, выкаченный из деревни с помощью коллективизации, а в более поздний период – нефть, газ, лес, золото, алмазы и т.д. Средства, полученные от экспорта, использовались как для осуществления индустриализации (так, только по германо-советским торговым соглашениям, действовавшим с 1931 по 1936 годы была получена значительная часть станков для строящихся советских заводов в обмен на хлеб и золото), так и для поддержания внутренней стабильности режима.
В течение одного десятилетия Россия превратилась из преимущественно аграрной страны в индустриальную супердержаву мирового значения. Для того, чтобы быстро осуществить столь грандиозную структурную перестройку народного хозяйства требовалась не менее грандиозная насильственная ломка сознания людей, которым отныне предстояло жить в новых условиях. Нужно было так же подавлять в зародыше всякие попытки сопротивления.
Используя индустриальную капиталистическую технологию, государственная бюрократия стран “реального социализма” переняла и индустриалистический капиталистический облик производительных сил с его крайним социальным и техническим разделением труда, с полным подчинением человека технологическому процессу производства, всеобщую систему наемного рабства, рационализацию политической структуры общества, и, наконец, капиталистическую модель потребления, основанную на накоплении материальных ценностей и стремлении к обогащению. Но именно здесь ее и подстерегал рок. Первоначально попытка развивать индустриально-капиталистическое производство лучше капиталистов и без капиталистов удавалась благодаря гигантской концентрации и централизации сил (в руках государства). Эти преимущества долго помогали бюрократии в борьбе с ее зарубежными конкурентами. Но постепенно она стала сдавать, не справляясь со все усложняющейся системой производственной и общественной жизни.
Советская индустриальная модель позволяла успешно осуществлять некоторые современные производственные проекты (прежде всего в военной области) за счет гигантской концентрации усилий всей экономики страны. Но при этом бюрократическая машина государства была крайне неповоротлива. Вынужденная контролировать все и вся в огромной стране, она не могла обеспечить гибкое динамичное реагирование на изменения происходящие в мире. В условиях глобальной технологической революции советское технологическое отставание стало фатальным, в том числе и в такой сверхважной для любой крупной империалистической державы сфере как военная техника. СССР проиграл технологическое и военное соревнование с западным капитализмом.
Кроме того, именно в оборонке концентрировались лучшие, наиболее профессиональные кадры рабочих и специалистов. И на оборонку работала колоссальная часть “мирной” промышленности: одни добывали руду, другие плавили сталь, третьи делали из этой стали танки, а танки стояли где-нибудь в Восточной Европе. Но поскольку завоевательная политика, имеющая целью ограбление чужих территорий, в ядерную эпоху стала невозможной, советский ВПК работал практически вхолостую, транжиря ресурсы страны и не давая ей взамен ничего ценного. Существование советской экономики, производившей мало ценных нужных населению товаров (сельское хозяйство было в основном разрушено, благодаря колхозам, а о советской легкой промышленности с ее “знаками качества” вообще трудно говорить всерьез), обеспечивалось за счет экспорта нефти и газа, а так же некоторых других видов сырья. Именно за счет экспортно-импортных операций и удавалось поддерживать более-менее сносный уровень жизни населения в СССР. Падение же цен на нефть в 80-е годы привело к краху советской экономики.
Советский государственный капитализм в конце концов оказался в тисках глубочайшего кризиса. Диспропорции и дефициты умножались, став постоянным кошмаром “тришкиного кафтана”. Дали сбой старые стимулы: нельзя бесконечно управлять кнутом, а на пряник уже не хватало ресурсов. Наконец, эгоистические и потребительские притязания разодрали на части некогда монолитную твердыню правящей бюрократии и дело закончилось переделом имперского пирога между различными региональными группировками бюрократии. Это процесс, имеющий свою собственню логику, продолжается и в наши дни.
С крушением “реального социализма” рухнул и миф о “двух системах”. Выяснилось, что диктатура и представительная демократия, сверхцентролизованная тоталитарная экономика и свободный рынок – с поразительной быстротой адаптируются к изменившимся условиям и переходят друг в друга. При этом бывшие партийные бонзы на глазах превращаются в демократических политиков – твердых сторонников парламентских свобод и laissez faire, а бывшие советские хозяйственники – в новоиспеченных Ротшильдов и Рокфеллеров. Оглядываясь назад после десятилетий безумной борьбы за гегемонию в мире, мы можем теперь ясно увидеть: никакого противостояния двух альтернативных друг другу систем не было. Были лишь два пути лихорадочного развития капиталистического индустриализма, каждый из которых представлял собой, оборотную сторону, тень другого. Несмотря на различия в условиях собственности (государственной или частной) и конкуренции (управляемой или рыночной), оба вели в принципе к одному и тому же — к катастрофическим последствиям в сфере экологии и к разрушению человеческой личности. Насилие над Землей и людьми восторжествовало и на Востоке и на Западе. Разными дорогами подошли эти разновидности индустриализма к порогу катастрофы. Но оба оказались в итоге над одним и тем же обрывом.
В поисках “меньшего зла”
Сила привычки и сила воспитания, вся тяжесть устоявшихся норм и авторитета, вся мощь пропаганды, наконец, сам доминирующий стиль жизни заставляют человека избегать “экстремистских крайностей”, чураться “утопических фантазий”. К тому же индустриализм в его высших проявлениях комфортабелен, и этот комфорт исподволь подточил волю к переменам. Нет, изменения, конечно, необходимы, но пусть они не заставляют нас отказаться от наших привычек и слабостей, пусть не подвергают риску неизведанного, не заставляют искать, мыслить и решать самостоятельно. Только без крутых поворотов! Пусть будет золотая середина. И люди отправляются в путешествие на поиски нового святого Грааля — меньшего зла. Она очень длинна, история этого путешествия! По разному назывались его цели, но путь всегда был бесплоден и вел к миражу.
С помощью мягких, постепенных, бережных изменений предполагается придать рыночной экономике новые черты, создать “постиндустриальное общество”. Не фабричное серийное производство с его гигантскими заводами и разрушающими среду технологиями, а гибкая, автоматизированная цивилизация услуг должны будут определять лицо грядущего мира. Капиталистические фирмы и компании, рыночные производители осознают выгодность и прибыльность экологичной техники, “чистого” производства и “чистой” продукции. Капиталистическая рыночная экономика станет, таким образом, постиндустриальной, личностной и экологической, и тень катастрофы развеется.
Многое на сегодняшнем Западе, как кажется, даже подтверждает эти прогнозы. “Прочь от старых, больших, “тяжелых” и грязных индустрий с дымовыми трубами к современным, небольшим, децентрализованным и вроде бы чистым индустриям с “высокой технологией”, “мягкой” химии — и к “экологически приемлемым услугам”, — таков был лозунг капитала. И частично это развитие произошло” (7), — подытоживал немецкий либертарный журнал “Уайлдкэт”. Современный капиталист зачастую охотно “экологизирует” свое производство, вкладывает средства в альтернативную энергетику, сельское хозяйство без химических удобрений, децентрализованное планирование развития городов, рециклинг; почти на всех предприятиях созданы экологические комиссии, должности экологических уполномоченных. Кое-где стали чище воздух и вода. Наконец, опережающий рост сферы услуг (так называемой “третичной сферы”) по сравнению с материальным производством доказывается почти всеми статистическими исследованиями. И все же…
Разберемся вначале, насколько удается западному капитализму стать “постиндустриальным”. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятия индустриализма и постиндустриализма. В глазах апологетов и защитников рыночной экономики разница между ними — всего лишь в отличии промышленной цивилизации от цивилизации услуг. Сводя различие лишь к поверхностной проблеме соотношения двух хозяйственных секторов (промышленного и услуг) или исключительно к фактору автоматизации, эти теоретики упускают главное в индустриализме — отчужденный, товарный (на продажу) характер производства, разделение труда, обусловливающее господство человека над человеком, стимулы к бесконечному росту экономики за счет природы, унификацию и стандартизацию товаров, связанную с господством производства над потреблением. Сама рыночная система порождет неизбежную одномерность, однонаправленность человека, превращает его в узкофункциональный механизм, предназначенный, главным образом, для получения прибыли и приобретение материального достатка. Политика, культура, язык, право, искусство, господствующая мораль подчиняются вышеупомянутому императиву и изменяются в соответствии с требованиями решения главной задачи.
А потому вышеупомянутые теоретики не говорят о простом и очевидном факте: речь идет не об отказе от капиталистического индустриализма, а, напротив, о его распространении на новые сферы, в частности на сферу услуг. Как справедливо замечает А. Горц, информатизация должна “позволить индустриализировать ремесленные услуги человека человеку, приватизировать ранее общественные службы и превратить производство в вид деятельности, которую выполняют сами потребители с помощью средств, поставляемых индустрией” (8). Отныне уже не только материальные, но и иные потребности людям придется удовлетворять через рынок. Но это означает дальнейшее вытеснение отношений самопомощи, взаимопомощи, самодеятельности и т. д., сокращение производства индивидуально предназначенных благ и услуг и гигантское расширение сферы анонимного, стандартизированного, коммерческого производства. Все это лишь усиливает деградацию, отчуждение и рабство человеческой личности. Создавая новый рынок, технологический переворот обостряет конкуренцию, борьбу всех против всех; тем самым господство человека над человеком не только не устраняется, но, напротив, увеличивается.
Столь же необоснованными выглядят претензии “постиндустриального капитализма” на мир с природой. Не принося гармонии во взаимоотношения между людьми, он не может и стать экологичным. По словам того же журнала “Уайлдкэт”, “с помощью “защиты окружающей среды” капитализируются все новые и новые сферы” (9). Природа все больше превращается в товар; естественные блага, воздух, вода — даже то, что прежде было бесплатным, — продаются и покупаются, а значит, и расхищаются во имя прибыли. Они предлагаются немногим, тем, кто, опять таки, обладает платежеспособным спросом. На остальных эта логика не распространяется, так что вредные производства просто переводятся в менее развитые регионы и страны, где население радо любой работе на любых условиях и потому готово поступиться экологическими гарантиями (или оказывается не в состоянии предъявить на них платежеспособный спрос). Такая политика только приближает экологическую катастрофу. Мы все, нравится это кому-то или нет, живем на одной планете. Очевидно, что экокатастрофы в одних регионах неизбежно скажутся на всех остальных регионах. Наконец сам принцип обладания, гоподства человека над человеком и природой, неразрывно связанный с принципом частной собственности, с рыночной логикой купли-продажи, разрушителен и для человека и для природы, даже в том случае, если собственник любит чистый воздух. Нельзя относиться к природе (равно как и к человеку) потребительски, такая логика неизбежно приведет к разрушению как объекта обладания так и его субъекта. Это неопровержимо доказал один из крупнейших психологов и социологов ХХ го столетия Эрих Фромм.
Порочная логика “производства ради производства” и “потребления ради потребления” — эти неотъемлемые признаки капиталистического индустриализма — лишь подчиняет себе новые, постиндустриальные и экологичные технологии, которые в иных условиях быть может могли бы стать фактором освобождения и гармонии. Орудие свободы и мира становится инструментом разрушения и всеобщей конкурентной войны.
Реформистские левые сознают, что капитализм не может быть “постиндустриализован” и “экологизирован”. Но и они не желают рвать с тем, что считают достижениями нашей цивилизации, — развитым разделением труда, специализацией и стандартизацией, рыночными отношениями, стремлением к выгоде как стимулу экономического развития. Они предпочитают разрабатывать проекты “рыночного социализма”, который призван, но их расчетам, соединить и примирить социальную справедливость с конкуренцией, самоуправление производителя и потребителя с рынком, спасение природы с экономический эффективностью и получением прибыли.
Насколько реальны эти надежды? Их можно понять как реакцию на провал модели “централизованного планирования” и всего восточноевропейского псевдосоциализма. Но оправдать их нельзя. В истории человечества были только две логики, только два стимула поступков. Одни опирались и опираются на унаследованный от природы инстинкт взаимопомощи, в их основе — солидарность и гармония. Другие — стихия взаимной конкуренции, господства и ненависти, кровавой борьбы друг с другом ради собственной утилитарной выгоды. И подобно тому как (говоря словами Козьмы Пруткова) нельзя объять необъятное, столь же невозможно, немыслимо соединить несоединимое. Либо одно, либо другое.
Трагедия Кассандры была в том, что люди не часто верят в предостережения, особенно если им кажется удобным не следовать им. Но осознание того, что человек все-таки разумен, заставляет нас не поддаваться либерально-рыночному духу времени и не делать ему уступки. Поэтому мы напомним здесь предупреждение П. А. Кропоткина: “.. Никакое общество не может сложиться на основании двух совершенно противоположных, постоянно противоречащих друг другу начал… Наемный труд начал свое существование именно с этого принципа — “каждому по его трудам”. — и привел он нас понемногу к самому явному неравенству и ко всем возмутительным явлениям современного общества. С того дня, когда люди начали мерить услуги, оказываемые обществу, платя за них деньгами…, — с того дня, когда было заявлено, что каждый будет получать столько, сколько он сможет заставить себе платить за свои услуги, — с этого дня вся история капиталистического общества была (при содействии государства) написана заранее… Неужели же мы должны теперь опять вернуться к этому исходному пункту и вновь пройти через то же развитие?” (10).
Увы, к этому предостережению пока что не особенно прислушиваются, забывая, что история, по образному выражению историка В. О. Ключевского, может жестоко проучить тех, кто не желает у нее учиться. Даже самые левые, революционные марксисты из тех, кто убеждены в необходимости общества самоуправления и самоопределения человека, даже они по-прежнему пребывают в плену абсолютизированных гегельянских догм. Они уверяют (и в этом оказываются неожиданно согласны с социал-дарвинистами!), будто лишь в борьбе состоит развитие, будто без противоречий невозможен прогресс, а гармония — это застой и энтропия. Они допускают возможность общества, где описанные нами противоположные принципы сосуществуют в длительной продолжающейся борьбе “на вытеснение”. У самых левых речь идет о переходном периоде. У более “умеренных” или “рыночных социалистов” — о совершенной и законченной модели. Считая дисгармонию орудием гармонии, уверяя, будто рынок “отомрет” через собственное распыление, расширение или, наоборот через государственный контроль над ним, они изображают господство как инструмент свободы.
Экологическая политэкономия давно доказала, что рыночные отношения наносят огромный ущерб окружающей среде. Профессор Капп в своей ставшей уже классической работе “Социальные издержки частного предпринимательства” (вышла впервые в 1960 г.) приходит к выводу, что “экономика свободного предпринимательства должна быть охарактеризована как экономика неоплаченных издержек… в той мере, в какой подлинные издержки производства вообще не учитываются предпринимателем. Эта часть производственных издержек перекладывается на третьих лиц или на общество и фактически лежит на них” (12).
Гаррет Хардин прекрасно продемонстрировал, как это происходит, в великолепном теоретико-игровом сценарии “Трагедия Альменде”. Предположим, каждый фермер может выпускать пастись на общественное пастбище столько своих коров, сколько он сможет. Однажды общее количество скота достигнет такого предела, после которого “каждая дополнительно выпущенная корова будет давать меньший удой молока с головы. Но это снижение удоев будет происходить за счет всех, в то время как каждый отдельный крестьянин сможет и дальше повышать собственное производство молока, увеличивая число своих коров. Его интерес будет состоять в том, чтобы увеличивать собственное стадо так быстро, как это возможно, причем быстрее, чем все остальные. Преследуя свою индивидуальную выгоду, — подытоживает А. Горц сценарий Г. Хардина, — отдельный крестьянин неотвратимо приближает общую катастрофу” (13).
Любой индивидуальный или коллективный товаропроизводитель в рыночной системе заинтересован произвести пусть вредную, но наиболее дешевую по себестоимости продукцию и продать ее как можно дороже. Что это – бомбы, яды или просто никчемная дребедень – не имеет никакого значения. Как-то по российскому телевидению был показан фермер, потчующий своих свиней БВК — искусственной биологической добавкой к корму, опасной при производстве и канцерогенной при потреблении мяса животных. Он прекрасно знал о последствиях, но его это не особенно интересовало. Дело-то выгодное: свиньи растут быстрее… Предостережение, которое, увы, не было услышано!
Остается, правда, еще возможность стимулировать предпринимателей на экологические меры с помощью государственных штрафов и льгот. Но во-первых, это будет уже вмешательством в столь любимую ныне “свободную игру” рыночных сил, а во-вторых, нигде в мире это еще не решило экологических проблем (максимум кое-где смягчило их). Дело в том, что не существует возможности реально ограничить экологический ущерб, который наносит природе (и человеку) индустриальный капитализм, потому что в этой системе господствуют императивы прибыли и материального производства, составляющие ее сущность, а все прочие идеи неизбежно маргинализируются и интегрируются в капиталистическую реальность.
Однако страны Восточной Европы и бывший Советский Союз не избрали даже этот весьма сомнительный путь “рыночного социализма”. Они сочли, что их “меньшее зло” в другом — в попытке сменить государственный капитализм на обыкновенный западный, рыночный капитализм. При этом российские либералы обнаружили у частнокапиталистической модели такие преимущества и достоинства, на каких не рискуют настаивать и самые убежденные ее апологеты в Западной Европе, Японии или Северной Америке. Но попытки ввести на территории бывшего СССР рыночный капитализм с треском провалились.
Мы можем видеть в России, как и в большинстве стран мира, преимущественный бурный рост спекулятивного и посреднического капитала, который избегает вкладывать крупные суммы в производство. Иностранный капитал тоже не рвется делать инвестиции в странах, где отсутствует социальная и политическая стабильность. Между тем, о какой стабильности можно говорить в условиях, когда большая часть населения живет в нищете? Пример восточноевропейских стран и “третьего мира” наглядно показывает, что массового производства для массового потребления здесь не получается. Здесь возможен лишь экономический рост в отдельных секторах экономики, обслуживающих, прежде всего, потребности имущей элиты (например, производство предметов роскоши). В социальном отношении это общество с чудовищной поляризацией богатства и бедности.
Разрушительные стороны рыночной экономики, о которых уже шла речь, дополнительно усугубляют тот тяжелый ущерб, что был нанесен окружающей среде в предшествующие годы централизованно-бюрократическим руководством и планированием сверху. Правда, из-за падения производства, экологическая ситуация на территории бывшего СССР кое-где улучшилась. Но с другой стороны, к обычным повсюду негативным последствиям рынка — торжеству краткосрочных хозяйственных интересов, слепой погоне за экономической эффективностью, производительностью и прибылью любой ценой, отсутствию контроля за производством со стороны потребителя, разграблению ресурсов — добавилась и особенность менее развитых стран — нежелание владельцев капитала финансировать экологическую переориентацию промышленности, энергетики и т. д., отсутствие элементарных правил экологической безопасности. Сейчас обсуждаются выгодные с коммерческой точки зрения проекты, предусматривающие складирование на территории России ядерных отходов транснациональных корпораций! В сельском хозяйстве введение частного земледелия и землепользования неизбежно приведет к резкой интенсификации эксплуатации почвы, ускоренному разрушению почвенного слоя и к бесконтрольному применению химических удобрений и вредоносных средств защиты растений. И это в ситуации, когда по данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), до 70% аграрных земель в бывшем Советском Союзе находится под угрозой эрозии!
“Экологизированный и постиндустриальный” капитализм, “рыночный социализм”, переход от государственного капитализма к рынку — таковы те дороги, на которых люди хотят найти сегодня “меньшее зло”. Мы попытались обнаружить за туманной, красивой дымкой слов обещаний извивы, повороты, выбоины и пропасти этих дорог. А потому можем теперь подвести итог: как централизованная бюрократическая модель общества с его планированием сверху, так и рыночная экономика и любые попытки их совместить в равной мере приносят жизнь, свободу, здоровье, благо людей и экологическое равновесие в жертву власти, господству, конкуренции, накоплению материальных благ. Меньшего зла нет. Единственный выход, единственная возможность остановить надвигающуюся катастрофу — порвать с самой логикой господства и с орудиями этого господства. “Собственность, господство, иерархия и государство во всех их формах и проявлениях немыслимы для дальнейшего существования биосферы, — писал М. Букчин. — … Любая попытка реформировать общественный строй, который натравливает человека на все силы жизни, — грубый обман, служащий лишь сохранению существующих институтов” (14).
Человеческий род сможет спасти себя и мир вокруг себя, лишь водворив гармонию между людьми и между человеком и природой, лишь поставив взаимопомощь и солидарность на место конкуренции и подавления. Но этому соответствуют и иные, альтернативные сегодняшним формы взаимоотношений людей, а следовательно, и новое общество.
Альтернатива сегодняшнего и завтрашнего дня предельно проста и сурова. Либо люди отыщут новый общественный строй гармонии, либо действительно наступит конец времен и больше уже не будет ничего. Есть лишь один способ превратить технологию, с помощью которой люди до сих пор завоевывали и эксплуатировали планету и себе подобных, в основу новой жизни. По словам М. Букчина, следует “преодолеть не только буржуазное общество, но и живучее наследие имущих: патриархальную семью, систему (гигантских) городов, государство; должен быть преодолен исторический разрыв, разделяющий дух и чувственность, индивид и общество, город и деревню, труд и игру, человека и природу. Дух спонтанности и многообразия, пронизывающий экологическое восприятие естественного мира, должен теперь снизойти на революционные изменения и утопию вновь создаваемого общества” (15).
Обрести гармонию с природой и с людьми — это значит преодолеть отчуждение, диктат со стороны внешних сил, угнетение и индустриальное разделение труда. Это значит заменить государство, бюрократию и иерархию социальной и личностной автономией и самоуправлением отдельных людей и их ассоциацией, а конкуренцию и взаимную борьбу эгоистов — солидарной взаимопомощью, добровольной координацией интересов и потребностей. Предоставим трусам и скептикам считать все это несбыточной мечтой. Наша задача — холодно, трезво, прогностически установить: либо такой прорыв будет совершен, либо мы погибнем!
Коммунитаризм
В современных обществах можно обнаружить три неравные социальные сферы. Это прежде всего государство как институционализированная сфера власти и господства, затем — буржуазное гражданское общество, образующее неинституционализированную основу государства, также проникнутое духом и логикой господства, иерархии и эксплуатации, и элементы развивающегося снизу альтернативного (в потенциале — либертарного) гражданского общества, стремящегося освободиться от господства, иерархии и эксплуатации. Представляя собой историческое развитие человеческой наклонности к взаимной помощи, эти элементы выступают в форме самоорганизации и самоуправления людей: рабочих организаций, гражданских инициатив, объединений жителей, различных коммун, самоуправляющихся групп и ассоциаций производителей и потребителей, и т. д. и т. п. — короче, в виде разнообразных добровольных социальных экспериментов, позволяющих строить жизнь и производить по-новому.
Прежде всего, возникновение и развитие альтернативных общественных структур отразило стремление объединившихся в них людей восстановить целостность человеческого бытия, единство труда, быта и досуга (свободного времени). Были опробованы различные формы такого соединения, наиболее совершенной оказалась до сих пор модель небольшой самоуправляющейся и в тенденции самообеспечивающейся основными продуктами и благами коммуны (общины), концентрирующей труд и досуг свободных, творческих и разносторонне умелых людей. По оценке теоретика движения кибуцев М. Бубера, “подлинная и устойчивая реорганизация общества изнутри может быть осуществлена лишь посредством соединения производителей и потребителей… сила и жизненность которого может быть обеспечена лишь системой взаимодействующих, полностью коллективных общин” (16). Таким образом, коммуна представляется наиболее оптимальной формой реальной ассоциации производителей и потребителей. В законченном виде такая автономная коммуна социализирует производство и берет его в свое распоряжение и под свой контроль. Интересный и полезный коммунитарный опыт был накоплен в аграрных коммунах Арагона в 30-е годы, и израильских кибуцах, многочисленных коммунах в странах Европы, Америки, Азии и т. д.
Оценивая в начале века причины неудачи или сравнительно малого распространения коммун (общин), П. А. Кропоткин пришел к выводам, которые актуальны до сих пор. Во-первых, многие общины строились и поныне строятся не на либертарных (анархических), а на авторитарных или полурелигиозных основах. Особенно это касается объединений, создаваемых приверженцами некоторых духовных сект.
Вторая причина — это изолированность коммун, которая делает внутреннюю жизнь скучной, рутинной, однообразной, заставляя людей ежедневно иметь дело с одними и теми же коллегами. Это часто заставляет молодежь покидать общину (как это имеет место, например, в израильских кибуцах). Помимо этого, изолированность заставляет коммуну (если она не находится на полном самообеспечении, а это достаточно редкий случай!) продавать продукты своего труда на рынке, то есть играть в системе общественного труда по существу ту же роль, которую играет индивидуальный предприниматель-капиталист. Поэтому Кропоткин рекомендовал объединять общины в локальные, региональные и т. п. федерации, с тем чтобы обеспечить в них более или менее разнообразное (диверсифицированное) хозяйство, свободу перехода из одной коммуны в другую (17). Объединяясь снизу, такие коммуны могли бы образовать систему, покрывающую собой все общество.
Экологические императивы и информатизационная технология “предписывают” облик производства в таком коммунитарном обществе: небольшие по размерам, гибкие компактные организационные формы, не допускающие детализированного разделения труда, технического и социального отчуждения человека, не разрушающие окружающую среду и основы жизни людей. Постиндустриальные и экологические технологии отнюдь не противоречат коммунитарным общественным формам. Более того, М. Букчин еще в 1966 г. доказал (в статье “За освободительную технологию”) (18), что при информатизации, децентрализации, экологизации и небольших размерах производства его коммунитарное ведение не только возможно, но и благоприятно. Соединение экологических критериев с производственным самоуправлением было осуществлено на практике не только некоторыми коммунами, но и кооперативными трудовыми группами (так называемыми “альтернативными проектами”).
Важное преимущество коммуны состоит в том, что производители и потребители в ней имеют возможность совместно и солидарно определять, что, где и как будет производиться и потребляться. Таким образом, производство ориентируется на удовлетворение вполне конкретных потребностей, на основе свободного договора обеспечивается взаимная координация потребностей и возможностей. Пути такого “планирования снизу” были подсказаны опытом ряда коммун и потребительских ассоциации: потребители суммируют свои потребности на регулярных общих собраниях и координируют затем эти решения с производственными возможностями либо в экономических органах коммуны (вместе с самоуправляющимися производителями), либо на общих собраниях коммун.
В свою очередь заинтересованные коммуны, объединенные в отдельные региональные и межрегиональные федерации, самоуправляющиеся производители и потребители могут совместно и солидарно, суммируя и координируя свои потребности и возможности, развивать более крупные промышленные и транспортные объекты, которые служат более чем одной коммуне. Подчинение экономических решений общественной договоренности, свободной согласованной воле людей позволит покончить с “экономическим” обществом, с порабощением человека экономикой.
Люди, желающие выжить в достойных их условиях, вынуждены будут отказаться от господства над природой и себе подобными. Но это означает коренное изменение процессов и путей принятия общественных решений, замену “внешнего регулирования” (со стороны централизованно-планирующей бюрократии либо стихийных рыночных законов) самоуправлением и федеративным договорным “планированием” снизу.
Некоторые альтернативные сообщества уже предприняли определенные шаги в этом направлении. Так, ряд анархических коммун во Франции выдвинул идею “непрямого обмена”, в соответствии с которым каждый член договорившейся коммуны может прийти на склад в любой из них и взять себе то, в чем он нуждается.
Что касается распределения внутри коммун (общин) и будущего коммунитарного общества в целом, то практика альтернативных движений четко выразила тягу людей к гармонии и социальному равенству. Речь не идет о той карикатурной, казарменной “уравниловке”, которую власть имущие приписывают левым, чтобы потом пугать этим страшилищем обывателя. Напротив, это современное общество господства нивелирует и усредняет людей. Задача левых в ином — в том, чтобы, говоря словами М. Букчина, заменять неравенство одинакового равенством неодинакового (21). Каждый человек просто по праву рождения должен иметь возможность свободно жить и удовлетворять свои индивидуальные потребности.
Именно так обстояло дело в прошлом в некоторых левых кибуцах. Один из теоретиков и практиков кибуцного движения так описывал этот способ распределения: “Принцип равенства… в кибуце не означает усреднения, то есть того, что все люди делают и должны делать одно и то же; именно здесь действует индивидуализирующий принцип. С одной стороны, от каждого по способностям. У людей различные способности… и каждый в соответствии со своими индивидуальными возможностями вносит вклад в общее дело. И точно так же наоборот: каждому по его потребностям. То есть и тут исходят из посылки, что индивидуальные потребности различны и что, с другой стороны, не существует связи между способностями и результатами труда — и удовлетворением потребностей, что это две различные сферы. В кибуце в целом есть связь между результатами труда и удовлетворением потребностей, но не на индивидуальном уровне” (22).
Примером настоящей самоуправляющейся коммуны можно считать современный немецкий коллектив Нидеркауфунген. Эта коммуна под Касселем была создана в декабре 1986 г. и в 1995 г. насчитывала 50 взрослых и 16 детей. Она намеревается продолжать расти. Принципы коммуны: идейный анархизм, совместное хозяйство, принятие решений на основе консенсуса, коллективные структуры быта и труда, демонтаж семейных и половых иерархий. Труд организован в соответствии с критериями экологичности и социальности производимых продуктов и услуг. В Нидеркауфунгене имеются детский сад (интегрированный и смешанный по возрасту), строительная мастерская, архитектурное бюро, столярная мастерская, слесарная мастерская, пошивочно-кожевенная мастерская, дом для конференций и встреч, столовая, зал заседаний, предприятие по биогородничеству, животноводческая ферма, наборная мануфактура и т.д. Всем этим занимаются отдельные трудовые группы. Создаются пенсионная система. Особенностью коммуны является совместное ведение хозяйства (все решения принимаются на общем пленуме). Ее члены говорят об “общем хозяйстве”, а не об “общей кассе”, предназначенной обычно для конкретных целей. “В общем хозяйстве есть только одна касса. В нее дается и из нее берется все. Все имеют к ней равный доступ. Частных доходов больше нет. Подарки, гонорары и т.д. тоже идут в общий котел. Нет никакой возможности делать расходы помимо общей кассы. Кроме того, в том, что касается производства, общее хозяйство включает в себя договоренность относительно рабочего времени, форме производства, предложении услуг и квалификации работающих. В том, что касается потребления, общее хозяйство требует договоренности о потреблении и потребностях, о том, как возникают потребности и какие последствия будет иметь удовлетворение моих потребностей”. В коммуне нет имущественных различий.
В Нидеркауфунгене разделяют потребительское и инвестиционно-производственное достояние. Первый “котел” образуется из ежемесячных доходов коммуны; при этом соблюдается следующий принцип: в среднем за год он должен быть не ниже, чем расходы. Инвестиционно-производственное достояние образовано из обобществленнного имущества членов коммуны, которое они офомили на нее в качестве долгосрочных даров или внесли при вступлении. Это имущество расходуется только при покупке и ремонте зданий и для инвестиций в сферу труда, но ни в коем случае не на нужды потребления. Коммуна сознательно отвергла принцип строго равного потребления и установила принцип распределения по потребностям. Интересно, что опыт коммуны Нидеркауфунген доказал: в условиях гласного, открытого и совместного обсуждения всех проблем злоупотребления являются исключением, люди учатся сознательно и ответственно относиться к своим потребностям, обсуждать и понимать их. Каждый член коммуны заключает с ней договор о том, что он может взять, если выйдет из коммуны; он утверждается консенсусом. Каждый месяц в коммуне подводится баланс, из которого видно, из чего складываются доходы (собственные сферы труда, работы вовне, гонорары, пособие по безработице, подарки, пособия на детей и т.д.) и расходы (продукты питания, книги, поездки, карманные расходы, арендная плата и т.д.). При указании расходов не фиксируется, кто именно их совершил, желающий узнать это может обратиться к кассовой книге. О расходах свыше 200 марок следует предварительно уведомлять для того, чтобы другие могли дать совет, нельзя ли где-то и как-то купить это дешевле. Более крупгые расходы (путешествия, компьютер и т.д.) подлежат одобрению пленума: обычно о них сообщают и если в течении последующих недель и на следующем пленуме никто не возражает – вопрос считается решенным. Каждая трудовая группа представляет отчет примерно раз в год, сообщая о своих доходах, расходах, рабочем времени, планировании развития. Все это считается важной частью информационной культуры в коммуне, которой уделяется много внимания.
В основном, однако, до сих пор речь шла, скорее, об экспериментах меньшинства, а не о полностью освобожденных пространствах, поскольку в своих отношениях с “внешним” миром коммуны, кибуцы и иные альтернативные единицы зачастую сохраняют закономерности господствующих товарно-денежных отношений. Это ограничивает, а частично и деформирует завоеванную свободу. Скажем, большинство кибуцев, даже установивших внутри чисто коммунистические отношения, ориентировалось на рыночный сбыт своей продукции вовне. В результате включения в процессы разделения труда многие из них вынуждены были пересмотреть прежние, самоуправленческие нормы и правила принятия решений в сторону большей экономической рациональности, интенсификации, специализации, концентрации полномочий и т. д. Такова характерная ситуация, когда рыночное начало открыто подрывает самоуправленческое, навязывает ему свою логику прибыли и господства. (Это, в конце концов, привело к полному перерождению кибуцного движению, превращению киббуцев в чисто комерческие предприятия с жестской иерархической ситемой управления, то же самое произошло и с большинством “альтернативных проектов” 70-х годов).
Любые изолированные и локальные попытки достичь свободы уязвимы, подвергаются постоянной опасности интеграции в существующую эксплуататорскую систему, риску. Устойчивость коммунитарной модели возможна лишь в том случае, если она будет распространена на целые общества, то есть на макросоциальный уровень. Но для того, что бы это произошло, необходимо массовое движенние, вдохновляющееся анархистскими принципами и способное осуществить радикальную трансформацию существующего общества. В качестве примеров таких движений, необходимо, прежде всего, указать на испанскую революцию 1936-1939 гг.
В Испании самоуправляющийся анархистский профсоюз CNT насчитывал в то время до 2,5 миллионов человек и играл исключительно важную роль в испанской революции. В революционной Испании 1936 г. функции координации и планирования промышленности снизу взяли на себя анархистские профсоюзы, образовавшие отраслевые генеральные советы делегатов и центральную кассу для равномерного распределения ресурсов отдельных самоуправляющихся предприятий. В декабре 1936 г. общее собрание профсоюзов в Валенсии решило координировать деятельность различных производственных сфер единым общим планом, чтобы избежать вредной конкуренции и бессвязных изолированных действий.
Наиболее далеко зашла революция в северном регионе Арагон, который считался “маяком революции”. Именно здесь, на территории, где анархистские народные ополчения под командованием легендарного революционера Буэнавентуры Дуррути вели тяжелые бои с фашистскими войсками, были сделаны решающие шаги на пути к либертарному коммунизму, хотя официально он так и не был провозглашен.
В арагонских коллективах жили 500 тысяч человек – больщая часть населения региона; в их распоряжении находились 60% обрабатываемых земель. В отношении “индивидуалов”, не входящих в коллективы, конгресс в феврале 1937 г. принял следующее решение: поскольку мелкие собственники, желающие остаться вне коллектива, считают себя способными работать в одиночку, они не должны пользоваться преимуществами коллектива (до тех пор случалось, что им разрешали на определенных условиях пользоваться коллективными благами и услугами). Однако их право вести хозяйство по-своему должно соблюдаться, если они не препятствуют деятельности коллектива. При этом каждый из них должен иметь столько земли, сколько он может обработать самостоятельно. Применение наемной силы строжайше запрещается.
Арагонские деревни – это не чисто сельскохозяйственные поселения. Мы бы назвали их скорее небольшими городами. Каменные дома, жители, которые занимаются не только обработкой земли, но и ремеслом, местной промышленностью и т.д. Эти предприятия, а также службы быта, учреждения культуры и образования тоже обобществлялись. В поселениях были сильны древние общинные традиции. Все это облегчало объединение людей в свободные территориальные и хозяйственные сообщества.
Внутри “коллективов” не было какой-либо иерархии, все пользовались равными правами. Главным решающим органом всегда было регулярное общее собрание членов, которое собиралось раз в месяц. Для текущей координации коммунальной и хозяйственной жизни избирались комитеты, часто возникавшие на базе прежних революционных комитетов. Их члены – в основном, делегаты от отраслевых секций – не пользовались какими-либо привилегиями и не получали особого вознаграждения за свою работу. Все они, кроме технических секретарей и казначеев должны были продолжать обычную трудовую деятельность. Каждый взрослый член “коллектива” (кроме беременных женщин) работал. Труд был организован на основах самоуправления. Бригады, состоявшие из 5-10 человек решали все основные рабочие вопросы на ежевечерних собраниях. Избираемые на них делегаты выполняли также функции координации и обмена информации с другими бригадами. Во многих коллективах” применялся принцип перемены труда, работники перемещались из одной отрасли в другую по мере надобности. Промышленные предприятия были включены в хозяйственную систему общины, что способствовало воссоединению индустрии и сельского хозяйства. Коллективы объединялись в окружные федерации.
Важнейшей мерой стала ликвидация денег. При этом арагонцы руководствовались не какой-то финансовой теорией, а своими этическими и революционными чувствами. В первые недели во многих “коллективах” вообще отменили вознаграждение за труд и ввели неограниченное свободное потребление.всех продуктов с общественных складов. Но в условиях войны и дефицитов это было нелегким делом, тем более, что вне “коллективов” сохранялось денежное обращение. В сентябре 1936 г. большинство общин перешло на так называемую “семейную оплату”. Каждая семью в “коллективе” получала равную сумму денег (в зависимости от “коллектива” примерно по 7-10 песет на главу семьи, еще 50% – на его жену и еще по 15% – на каждого другого члена семьи). Эти средства предназначались только для покупки продуктов питания и предметов потребления и не должны были накапливаться. Во многих общинах вместо общегосударственных денег были введены местные купоны. В третьих существовали карточки и талоны. Определенные виды продуктов рационировались почти повсюду (шла война), зато некоторые (вино, масло и др.) во многих местах выдавались без всяких ограничений. До решения об отмене денег “в трети из всех 510 сел и городов, принявших коллективизацию в Арагоне, деньги были отменены и товары предоставлялись бесплатно из магазина коллектива по потребительской книжке”, “в двух третях были приняты соответствующие заменители денег – боны, купоны, монеты и т.д., которые были действительны только в выпустивших их общинах”.
Первое время в деятельности отдельных общин проявлялось определенное местничество, сказывалось и стартовое неравенство “коллективов” – одни из них были зажиточнее, другие беднее. Как утверждал А. Зухи, вначале некоторые выступали против идеи хозяйственного планирования под лозунгом самообеспечения. Полная независимость “коллективов” друг от друга, различия в благосостоянии общин и в системе распределения затрудняли координацию их хозяйственной деятельности. К координации действий призывали анархисты – сторонники углубления социальной революции, в том числе Дуррути, который лично агитировал “коллективистов”. В феврале 1937 г. в местечке Каспе состоялся конгресс “коллективов” Арагона с участием нескольких сотен делегатов. Было принято решение о создание Федерации. Участники договорились усилить агитацию в пользу “коллективизации”, создать экспериментальные фермы и технические школы, организовать взаимопомощь между “коллективами” с предоставлением друг другу машин и рабочих рук. Были отменены границы между селениями и упразднены коммунальные рамки собственности. Объединившиеся “коллективы” решили координировать обмен с внешним миром, создав для этого общий фонд из продукции, предназначенной на обмен, а не для собственного потребления общин, а также начав составлять статистику производственных возможностей.. Наконец, предусматривалась полная отмена любых форм денежного обращения внутри “коллективов” и их Федерации и введение единой для всех потребительской книжки (по ее предъявлении предметы потребления выдавались бесплатно по норме). Последнее должно было помочь установить реальные потребности каждого из жителей региона, чтобы затем, ориентировав производства на конкретные нужды людей, перейти к анархо-коммунистической практике “планирования снизу”.
Деятельность арагонских “коллективов” оказалась чрезвычайно успешной. Даже по официальным данным, урожай в регионе в 1937 г. возрос на 20%, в то время как во многих других районах страны он сократился. В Арагоне строились дороги, школы, больницы, фермы, учреждения культуры – во многих селениях впервые; осуществлялась механизация труда. Многие жители впервые получили доступ к медицинскому обслуживанию и свободному, антиавторитарному образованию (врачи и учителя становились полноправными членами “коллективов”.
Поражение испанской революции прервало это социальный эксперемент. Однако, испанские анархо-синдикалисты, суммируя практику революции 30-х и последующих социальных экспериментов, предложили в 70-е годы системную “Конфедеративную концепцию либертарного коммунизма” (19). Их идея развивает модель двойной федерации: территориального объединения коммун и хозяйственного объединения самоуправляющихся производителей. При этом экономические федерации производителей, как хозяйственные органы федераций коммун, призваны собирать информацию со всех коммун, координировать и согласовывать ее с помощью современных информационных средств и рассылать по коммунам. Таким образом, предполагается принимать решения по отраслям о распределении сырья, о производственном сотрудничестве. Затем эти решения подлежат ратификации или уточнению на соответствующих конгрессах коммун различных уровней.
Наконец, важнейшая черта того общественного устройства, которое придется утвердить человеку, если он хочет выжить в достойных его и его потомков условиях, это отмирание труда. Он должен стать свободной самоопределяемой деятельностью каждого человека, уже не рабством и проклятием, а (благодаря современным технологиям и ориентации на способности и склонности человека) своего рода созидательной игрой. В итоге различия между трудом и хобби могли бы все в большей степени растворяться, чтобы когда-нибудь, быть может, исчезнуть совсем. “Электронная технология и робототехника впервые в истории человечества создала предпосылки для качественно иной формы общества и экономики, которая не будет уже основана на классической “экономике рабочего времени”. Поскольку для изготовления общественно необходимого набора товаров требуется все меньше человеческой рабочей силы и рабочего времени, эра труда, создающего стоимость и прибавочную стоимость в тенденции идет к концу, как это гениально предвосхитил еще Карл Маркс…, – заявлял на конференции “Солидарность-2000”, организованной профсоюзом металлистов ФРГ в марте 1989 г., левый социолог М.Шнайдер. – Высокоавтоматизированный капиталистический процесс производства создал объективные предпосылки для осуществления этого марксового представления”. С этими сдвигами Шнайдер связывал и изменения в сознании трудящихся: смена ценностей “выражается сегодня в растущей потребности в личностной самореализации и творчестве…, затрагивающих уже не только сферу свободного времени, но и сферу труда. Увеличивающееся свободное время придало людям вкус к самоуправляемой жизни и самоуправляемому труду. Труд как подневольный труд утратил свой мифологический ореол… Но тем самым прокладывает себе дорогу преобразование всех моральных понятий, этических систем и категорий разума, основанных на голом успехе и труде.
Заключение
Говоря об “обществе спасения”, очень легко впасть в соблазн и подобно утопистам прошлого нарисовать детальные картины устройства прекрасного мира гармонии, справедливости и доброты. Мы постарались, напротив, не дать чрезмерной воли умозрительной фантазии, а говорить только о том, что было опробовано, или о том, что совершенно необходимо для выживания. Поэтому мы не приводим здесь “научного” определения или “строгого” конкретного описания строя либертарного социализма. Удовлетворимся для обобщения емкой характеристикой, оставляющей полный простор самоорганизации и самодеятельности людей. Ее автор П. A. Кропоткин: “Это общество будет состоять из множества союзов, объединенных между собою для всех целей, требующих объединения, — из промышленных федераций для всякого рода производства: земледельческого, промышленного, умственного, художественного; и из потребительских общин, которые займутся всем касающимся, с одной стороны, устройства жилищ и санитарных улучшений, а с другой — снабжением продуктами питания, одеждой и т. п.
Возникнут также федерации общин между собою и потребительских общин с производительными союзами. И наконец, возникнут еще более широкие союзы, покрывающие всю страну или несколько стран. Все эти союзы и общины будут соединяться по свободному соглашению между собой… Развитию новых форм производства и всевозможных организаций будет предоставлена полная свобода; личный почин будет поощряться, а стремление к однородности и централизации будет задерживаться. Кроме того, это общество отнюдь не будет закристаллизовано в какую-нибудь неподвижную форму; оно будет, напротив, беспрерывно изменять свой вид, потому что оно будет живой, развивающийся организм” (23).
Конечно, социальная система, описанная Кропоткиным, разительно отличается от общества, в котором мы сегодня живем. Те явления, о которых мы говорили, — это еще отнюдь не свободный мир возможного завтрашнего дня, в лучшем случае — пример или тенденции. Будут они реализованы или нет, зависит не от мнимых объективных и автоматических “законов”, а от воли и способности самих людей к действиям, к борьбе, к сопротивлению и созиданию. Бесполезно надеяться, что какая-либо верхушечная, чисто политическая революция, захват политической и государственной власти хоть на шаг приблизит нас к цели. Но если люди смогут самоорганизоваться, если трудящиеся смогут занять фабрики, заводы, учреждения, аграрные хозяйства и утвердить на них самоуправление, если жители организуют постоянное самоуправление по месту жительства (в форме народных собраний, идущей от древнегреческого полиса или секций революционного Парижа), если потребители и производители объединятся в свободные ассоциации и начнут сами, совместно и солидарно решать вопросы собственной общественной жизни, без бюрократии, государства и рынка, — это будет социальная революция, дорога к свободе и сама свобода!